Автор: Стив
де Шейзер
По понятным причинам меня нередко спрашивают о моем интересе и частом цитировании работ Витгенштейна в текстах и во время обучающих семинаров. Поскольку я считаю, что ОРКТ – это практика или деятельность, которая не основывается на (большой) теории, кажется странным, если не противоречивым, снова и снова обращаться к работам одного философа. Это рассуждение ошибочным образом приводит некоторых читателей и участников семинаров к идее, что философия Витгенштейна может послужить такой (недостающей) теорией. Однако, ища философскую систему или теорию, они легко могут обнаружить, что чтение Витгенштейна, по меньшей мере, вводит, в замешательство и сбивает с толку, поскольку подобной системы или теории он не предоставляет. Напротив, его работы – «несистематические, беспорядочные, отклоняющиеся, прерывистые, с частой сменой тем и быстрыми переходами от одного предмета к другому» (Стролл, с. 93). Следовательно, читателю приходится много работать, чтобы отследить пересечения различных цепочек аргументации. Витгенштейн намеренно использует этот подход, действуя разрушительно и стратегически, для того, чтобы читатель снова взглянул и, таким образом, начал думать по-новому, иначе.
Можно без преувеличения назвать Витгенштейна величайшим философом двадцатого века (его труды, безусловно, отличны от работ любых других философов). Многие люди, начиная с Бертрана Рассела, в рамках философии и вне ее называли Витгенштейна «гением». Например, Стролл (2002), считающий его «величайшим философом современности», пишет, что:
«Поздний Витгенштейн завершает и выходит за рамки той [философской] традиции, он, можно сказать, переставляет ее с ног на голову. Традиция представляет обычного человека как сбитого с толку и нуждающегося в философской терапии. Сократ в этом понимании – философ парадигмы. Он расхаживал по Афинам, расспрашивал своих сограждан и быстро выявлял ограниченность и непоследовательность мышления в отношении фундаментальных вопросов. У Витгенштейна акценты расставлены в другом направлении. Это философы вроде Сократа и его последователи, которые «стремятся посыпать голову пеплом, а после жалуются, что они ничего не видят», нуждаются в помощи». (с. 5)
Философия, с самого своего рождения, более двух тысяч лет тому назад, фокусировалась на затруднениях и сложности индивида, пытаясь вникнуть и понять отдельного человека и его/ее внутренние процессы и состояния. Философы искали сущности вещи – «мысли», «знания», «бытия», «объекта», «времени», «Я», «имени» и т.п. Психология, этот сравнительно юный отпрыск философии, продолжила придерживаться данной ориентации на разум, эмоции и поведение индивида. Психология и ее «кузина», психиатрия, работали на то, чтобы понять, что пошло не так внутри проблематичного человека – выставить диагноз – и решить, как это починить. Витгенштейн, говоря о классификациях (таких, как диагнозы), в целом, отмечал, что:
«Классификации, придуманные философами и психологами, похожи на те, которые мог бы составить человек, пытающийся классифицировать облака по их формам». (ФЗ, 154)
Витгенштейн относился к проекту традиционной философии совсем иначе:
«Когда философы употребляют слово "знание", "бытие", "объект", "я", "предложение", "имя" и пытаются схватить сущность вещи, то всегда следует спрашивать: так ли фактически употребляется это слово в языке, откуда оно родом?
Мы возвращаем слова от метафизического к их повседневному употреблению.» (ФИ, 116)
Для Витгенштейна «повседневное употребление» - краеугольный камень его мысли, философской практики. Вот он применяет этот подход к традиционной философской загадке:
«Сравни знание и речевое выражение:
какова высота Монблана
как применяется слово "игра"
как звучит кларнет.
Удивляясь, что можно знать нечто и быть не в состоянии это выразить, вероятно, думают о первом случае. И уж, конечно, не о таком случае, как третий.» (ФИ, 78)
Ясно, что различные употребления слов «знать» и «говорить» бросаются в глаза, они очевидны. Сложность появляется там, когда мы начинаем думать, что слова несут в себе свое значение, а не что видение этого значения произрастает из употребления. То есть, что знание того, как звучит кларнет и знание высоты Монблана – это два разных употребления слова «знание». И повествование о том, что вы знаете – в каждом из случаев – совершенно различное действие. Здесь нет ничего загадочного. Мы все были обучены использованию этих слов, и не стоит ожидать, что либо мы, либо кто-то еще сможет рассказать, как звучит кларнет. Трудность зародилась потому, что философы, по традиции, захотели обнаружить сущность «знания» и «говорения», и следовательно, запутались, когда вырывали слова из контекста, в котором те обычно использовались.
 В своих работах Витгенштейн, кажется, преследовал различные цели: «почти все главные проблемы традиционной философии – изменения, универсалии, абстрактные идеи, скептицизм, значение, обозначение и разум – берут начало в философии Платона и Декарта» (Стролл, с 105), также как и в трудах Канта, и собственных ранних работах Витгенштейна. Как говорит Вильямс (2002):
В своих работах Витгенштейн, кажется, преследовал различные цели: «почти все главные проблемы традиционной философии – изменения, универсалии, абстрактные идеи, скептицизм, значение, обозначение и разум – берут начало в философии Платона и Декарта» (Стролл, с 105), также как и в трудах Канта, и собственных ранних работах Витгенштейна. Как говорит Вильямс (2002): «У Декарта как непосредственность, так и интенциональность объясняются в терминах специального непогрешимого знания, которое мыслитель содержит в своем уме. Этот эпистемологический признак психического дает привилегии субъективному над публичным и/или социальным в качестве начальной точки языка, веры и знания». (Уильямс, с. 2).
Подобная индивидуалистическая точка зрения – когда человек обладает непогрешимым знанием относительно содержания своего разума – присуща традиционной психологии и психиатрии. И далее:
«Витгенштейн фундаментальным образом противопоставляет себя тому пониманию разума, согласно которому опыт или знание – это своего рода амальгама определенных сенсорных данных и устройства и функционирования ума. Витгенштейн отрекается как от картезианской, так и от кантианской метафизики. Грамматика, правила, понятия не являются априори метафизическими или эпистемологическими условиями существования опыта, суждения или действия. Грамматические утверждения, правила и концепты могут быть извлечены из наших текущих практик, из наших языковых игр, но они не лежат в основании этих игр» (Уильямс, с. 3-4).
То, что Витгенштейн называет языковыми играми, можно просто представить как срезы повседневной жизни, место дислокации слов и концептов. Он описывает языковые игры «тремя способами: как методологический инструмент для исследования философских теорий, как способ, с помощью которого дети учатся [обучение], как объяснительный инструмент, описывающий использование языка в отношении других форм действия» (Уильямс, с. 220). Это ежедневные практики и активности, в которых слова используются и приобретают свои значения. Витгенштейн перечисляет несколько игр в качестве примера в рамках определения термина:
«Термин "языковая игра", призван подчеркнуть, что говорить на языке компонент деятельности или форма жизни.
Представь себе многообразие языковых игр на таких вот и других примерах:
Отдавать приказы или выполнять их
Описывать внешний вид объекта или его размеры
Изготавливать объект по его описанию (чертежу)
Информировать о событии
Размышлять о событии
Выдвигать и проверять гипотезу
Представлять результаты некоторого эксперимента в таблицах и диаграммах
Сочинять рассказ и читать его
Играть в театре
Распевать хороводные песни
Разгадывать загадки
Острить; рассказывать забавные истории
Решать арифметические задачи
Переводить с одного языка на другой
Просить, благодарить, проклинать, приветствовать, молить.»
(ФИ, 23)
Как не устает повторять Витгенштейн, ежедневное употребление слов - это социальная, интерактивная деятельность1.
Большую часть двадцатого века психотерапевтические концепции четко вписывались в рамки традиционной философии. Например, эмоции рассматривались как нечто, существующее внутри индивида. Иногда эти эмоции расценивались как триггеры или даже причины человеческого поведения. (Конечно, бывает, что каждый из нас использует эмоции в качестве объяснения причин наших поступков; это нормальный способ говорения). Таким образом, психотерапия ставит акцент на индивиде, контролирующем или справляющимся со своими эмоциями.
Такие описания ментальных процессов приводят к некоторым ошибочным утверждениям, например, что ощущения - приватны, воображение произвольно, люди действуют согласно своим намерениям и убеждениям и т.п. По Витгенштейну, эти утверждения ошибочны, поскольку они воспринимаются как эмпирические высказывания, описывающие внутренние состояния или причины поведения. На самом же деле, эти утверждения, будучи грамматическими, обнаруживают себя в качестве норм наших психологических языковых игр. Это высказывания типа «Слон в шахматах движется по диагонали». Данное утверждение выражает правило игры, а не эмпирическое знание касательно того, как фигурки в форме слонов передвигаются в мире. Иногда они скатываются со стола (Уильямс, с. 10).
Витгенштейн рассматривает эмоции совершенно иначе. Например, он бы указал на контекст, в котором индивид переживает эмоцию. Он мог бы напомнить нам о том, что в наше ежедневное употребление слов «гнев», «страх», «тревога», «мне лучше», «я в депрессии» и т.п. вовлечены другие люди; и что то, что произошло до или после, имеет какое-то отношение к переживаемой нами эмоции. То есть эмоция - «гнев», «мне лучше», «я в депрессии» и т.п. - не может быть понята, если мы извлечем ее из того контекста, откуда она родом – если мы это делаем, эмоция становится чем-то мистическим, отделенным от повседневной жизни.
Конечно, как отметил бы Витгенштейн, это и так нам уже известно, но традиционное мировоззрение (неизбежно во многом основывающееся на традиционной психологии и философии) сбивает нас с толку и побуждает нас копаться глубже и пытаться углядеть, что подлежит эмоциям, понять сущность состояния «мне лучше» или «гнева». Мы автоматически забываем о контексте ежедневной жизни и испытываем недоумение. Таким образом, Витгенштейн считал своей долгом – по крайней мере, отчасти – напоминать нам о том, что мы уже знаем.
Для Витгенштейна все внутренние процессы и состояния, например чувство гнева, чувство, что тебе лучше, мышление и т.п., связаны и – пусть и частично – определяются некоторым внешним контекстом.
Психологические глаголы характеризуется тем фактом, что третье лицо настоящего времени должно быть подтверждено при помощи наблюдения, а первое лицо – нет.
Предложения в третьем лице настоящем времени – содержат информацию. А в первом лице настоящем времени – выражение.
Первое лицо настоящего времени сходно с выражением. То есть, если человек говорит «Я переживаю депрессию» - это выражение его эмоционального или чувственного состояния, оно напоминает восклицание, например, «ой». Это не эмпирическое утверждение. Не то чтобы он или она говорили о собственном наблюдении за собой. Это не утверждение о знании. Поскольку первое число не сообщает нам что-то, что человек знает о себе, но является просто выражением, то человек не может быть неправ в этом. Конечно, поскольку он не может быть неправ, он не может быть и прав. Это просто восклицание.
Однако, когда мы говорим: «он переживает депрессию», мы сообщаем о наших наблюдениях – что опять же указывает на контекст: мы видим, что он ведет себя так, как мы видели, вели себя другие люди, которые говорили, что они переживают депрессию. Конечно, мы можем ошибаться, и только этот человек может подтвердить или опровергнуть наше наблюдение.
То, как Витгенштейн описывает вещи, напоминает нам, что мы должны наблюдать происходящее и разглядывать ежедневную жизнь – включая язык так, как он на самом деле используется – как место, откуда родом наши понятия и описания. Именно эти описания ежедневной жизни могут заместить объяснения и теории традиционной философии и психологии.
Список литературы:
ФИ Витгенштейн Л. Философские исследования (Wittgenstein, L. (1958) Philosophical investigations (trans. G.E.M. Abscombe). New York: Macmillan)
ФЗ Витгенштейн Л. Философские заметки (Wittgenstein L. (1975) Philosophical Remarks (trans. R. Hargreaves & R. White). Ed. R. Rhess. Chicago: University of Chicago Press.
Stroll, A. (2002) Wittgenstein. Oxford: Oneworld Publications.
Williams, M (2002) Wittgenstein, mind and meaning: Towards a social conception of mind. London: Routledge.
1 Приказывать, спрашивать, рассказывать, болтать в той же мере часть нашей натуральной истории, как ходьба, еда, питье, игра. (ФИ 25)
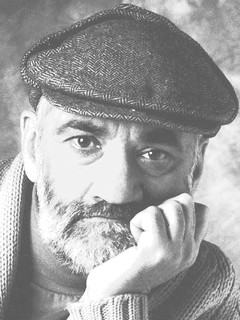
Комментариев нет:
Отправить комментарий